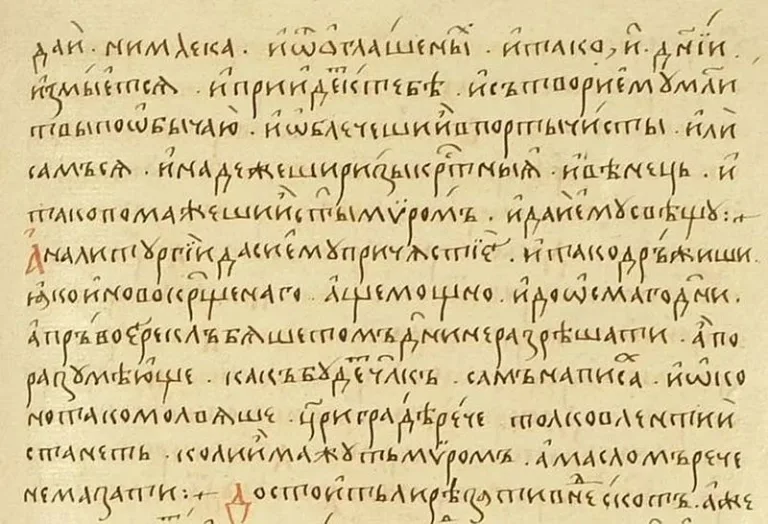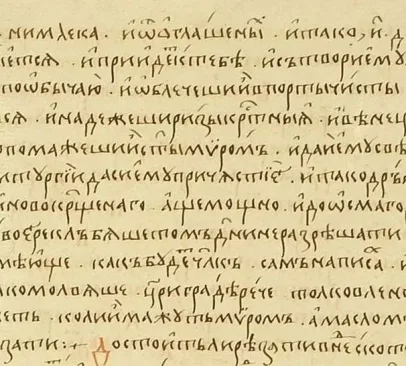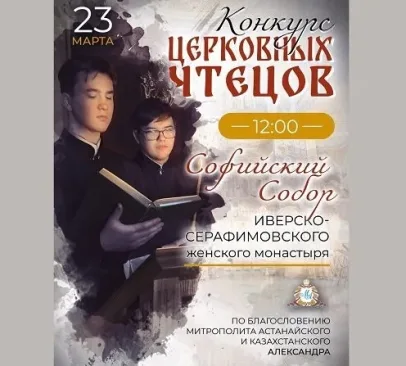Один из Канонических ответов митрополита Иоанна II (†1089) черноризцу Иакову был посвящен возможности рукоположения иподиаконов. Донося мнение русского первосвятителя, текст Канонических ответов не сохранил самого заданного вопроса. Впрочем, принимая во внимание ответ митрополита Иоанна, можно заключить, что вопрос был посвящен возможности поставлять иподиаконов на более высокие церковные степени служения. «Или в подьяконах на прочее потщися никакоже поставить, дóндеже оженится; по поставлении же поимающе жены, погубляют чин свой. А иже [преже] створеная, аще хочешь [по искушенью] расмотри».
При всей кажущейся ясности сути ответа и грозного предупреждения митрополита Иоанна все же приходится признать, что и перевод, и понимание изложенной русским первосвятителем нормы крайне затруднительны. Во-первых, в тексте присутствуют очевидные пропуски слов или фраз, реконструкция которых является известной условностью. Следовательно, некоторые смыслы, очевидные для Иакова, для современного исследователя ускользают или, по меньшей мере, искажаются. Во-вторых, применяемые автором перевода словесные конструкции Канонических ответов (а сохранившийся текст Канонических ответов действительно является переводом с греческого) указывают на то, что и автор, и его читатели понимали, что именно скрывалось за «пропущенными» фразами. Однако эти смыслы далеко не самоочевидны для нас. Примерный перевод текста таков: «Или [кто] в иподиаконах возжелает иного большего, никак не поставлять [на церковную степень], покуда не оженится; по поставлении берущий жену губит свой чин. А если [ранее, прежде] совершения [поставления женился], если хочешь [после испытания] рассмотри [возможность его рукоположить]».
Действительно, иподиаконство (дьяки, диаки) — один из малоизученных в отечественной истории церковных чинов Древней Руси. В российской историографии ему посвящено лишь несколько в своем большинстве самых общих замечаний и статей справочного характера, если не считать специальную статью А. А. Ткаченко в 26‑м томе «Православной энциклопедии». Однако и она применительно к описываемой эпохе не вносит желаемой ясности в понимание иерархического и социального статуса иподиаконов. Правда, появление в трех канонических сборниках (Ответах митрополита Георгия, Канонических ответах митрополита Иоанна и Вопрошании Кирика), а также в Уставе новгородского князя Всеволода Мстиславича купеческой организации церкви Ивана на Опоках упоминаний об этом чине, как и о ряде ограничений и проступков, связанных с ним, дают основания полагать, что обладатели этой церковной степени имели определенный вес и значение как в самой церковной среде, так и в широких кругах населения. Во всяком случае, иподиакон — не обычный причетник, а младший священнослужитель, и в Уставе князя Всеволода Мстиславича упоминается среди тех, кто находился под княжеским покровительством и кого князь одаривал специальным содержанием. При этом, согласно Уставу князя Владимира Святославича, иподьякон, как и иные члены причта и клира, входил в число церковных лиц, находившихся под юрисдикцией митрополичьего суда. Данная норма, например, повторена в одном из списков «Заповеди св. отецъ», датированным В. Н. Бенешевичем XII в. и связываемым исследователем с именем новгородского архиепископа Григория (1186–1193).
Между тем знакомство с церковными нормами, регламентировавшими вопросы служения иподиаконов, позволяет заключить, что положение последних обладает некоторой двойственностью. Не являясь священническим, их служение в некоторых моментах сопрягается с диаконским. Вероятно, иподиаконский чин некогда в Древней Церкви был близок с чином диаконис, которые тоже являлись «одной из степеней церковного клира», «не имея специальных функций за общественным богослужением», и представлял с ним своего рода пару с той лишь разницей, что перечень функций, выполнявшихся иподиаконом, обладал большим числом своего рода «прав», связанных с несением обязанностей при подготовке и во время богослужения. Как охарактеризовал иподиаконство А. А. Ткаченко, в современной Церкви это «высшая степень церковнослужителя, непосредственно примыкающая к иерархии священнослужителей». При этом иподиаконы лишь «суть лица, служащие священнослужителям». Например, сегодня иподиакон помогает мыть руки священнослужителям и архиереям, следит за порядком в храме, обладает правом ухаживать за церковными сосудами, прикасаться к Престолу и беспрепятственно передвигаться по алтарю. Что же касается его облачения, то оно, соответствуя диаконскому, лишено поручей, а орарь в современной практике препоясуется крестообразно. Правда, 22‑е правило Лаодикийского собора все же изначально не допускало использование иподьяконами ораря. Круг этих преимуществ и обязанностей возник не одномоментно и явился результатом эволюции православной литургии и церковных чинов.
В отношении же Древней Руси, а именно Руси XI–XIII вв., ситуация видится более сложной, что объясняется состоянием источников. Однако и здесь иподиакон выступал не совершителем божественной службы, а лишь ее созерцателем. В данном случае примечательно одно из поучений Изборника 1076 г. Данный фрагмент обращает внимание на поведение участников божественной службы во время раздробления Тела Христова. Среди зрителей происходящего упоминается и иподиаконы: «Прозвутеры иерея х[ристо]вы предъстателя таинеи его тряпезе: и дробителя телоу его. всякою чьстья его почьсти. и съ страхъмъ въз[и]раи н<а> ня Т[аже] дияконы и[подь]якы».
Что же касается места и формы участия иподиаконов в русском богослужении, то они, судя по всему, были подвержены изменениям, а к концу XIII в. даже были ужесточены. Во всяком случае, правила Собора 1273/74 г. предписывали: «Повелеваемъ же отселе въ всехъ церквахъ ни Апостола чисти, ни прокимена пети, ни въ олтарь входити неосвященомоу. Дыякъ аже освященъ боудетъ, да не прикасаеть[ся] къ [съ]соудомъ освященымъ, ни святаго кандила никакоже да не дьрзнетъ принести, разве аще не дьяконъ или попъ, ни самомоу томоу великомоу подъякоу».
Вводившиеся в отношении иподиаконов, которые все же в большей мере рассматривались в качестве самой низшей степени священнослужителей, и причетников ограничения были, вероятно, призваны пресечь местный русский обычай предоставления иподьяконам диаконских прав, одним из которых считалось право прикасаться к священным сосудам. Более того, появление данной нормы очевидно указывало на широту таких практик ранее. Однако насколько отмеченные требования были корректны с церковно-правовых (канонических) позиций?
Так, Апостольские постановления — памятник, датируемый концом IV в. — содержат следующее предписание: «А о иподиаконах постановляю вам, епископам, я, Фома. Рукополагая иподиакона, ты, епископ, возложи на него руки и скажи:
Владыка, Бог неба и земли и всего, что в них Создатель, явивший в скинии свидетельства стражей, блюстителей святых Твоих сосудов. Сам и ныне призри на раба Твоего сего, избранного иподиакона, и дай ему Духа Святого для того, чтобы достойно прикасаться служебных Твоих сосудов и творить волю Твою всегда, Христом Твоим, с Которым Тебе слава, честь и почитание, и Святому Духу во веки. Аминь».
Правда, 21‑е и 25‑е правила Лаодикийского собора (того же IV в.) устанавливали запрет на прикосновение иподиаконов к священным литургическим сосудам, участие в преподавании верующим Хлеба и благословение ими Чаши: «Иподиаконам не подобает быти на месте диаконов, и касатися священных сосудов. Не подобает иподиакону раздавати хлеб, или благословляти чашу».
Данные нормы, кажется, стали результатом того, что между иподиаконскими и диаконскими обязанностями произошло размывание границ, что и стремились пресечь участники Собора. Однако вводившиеся ограничения обладали, судя по всему, избыточностью, вступавшей в противоречие с первоначальным представлением об изначальном призвании иподиаконов. Некоторое преодоление возникавшего затруднения произошло только в Алфавитной Синтагме Матфея Властаря (XIV в.), в которой были оговорены различные стороны иподиаконского служения и иподиаконской жизни. Однако, возвращаясь к проблеме отношения иподиаконов со священными сосудами и предметами, а также места иподиаконов в алтаре во время богослужения, необходимо отметить, что в данном своде все же уточнялось, что запрет прикасаться к священным сосудам и заботиться о них действует лишь тогда, когда те содержат Святые Дары: «21‑е правило Лаодикийского собора говорит: не должно иподиаконам в так называемом диаконике касаться священных сосудов для совершения посредством их священнодействия над приносимым в жертву, т. е. хлебом и вином (здесь содержащим обозначается содержимое): ибо не позволяется им проходить диаконское служение. Прикасаться же к порожним священным сосудам, приготовлять их к священнодействию и прибирать после сего и полагать в честном месте иподиаконам приличествует более всего: ибо в этом, собственно, и состоит их служение".
Таким образом, в древнерусских богослужебных реалиях XI–XIII в. положение иподиаконов видится сложным и переменчивым.
Скорее всего, иподиаконы присутствовали только при кафедрах и в крупных и богатых храмах, таких как, например, в Иване на Опоках. В приведенной выше статье Изборника иподиаконы упомянуты совместно с диаконами, что вероятно, объяснялось тем, что ни первые, ни вторые не имели — как не имеют и сейчас — права на самостоятельное служение, являясь лишь сослужащими помощниками иереев и епископов. Более того, их совместное упоминание позволяет говорить об иподиаконах как о части диаконата. Иной вопрос: насколько основательно отмеченное положение было закреплено в церковно-правовых (канонических) нормах? Либо оно определялось таковым в силу одной лишь схожести функций? Правда, об обязанностях иподиаконов упоминаемая статья ничего не говорит, останавливаясь лишь на умозрительной стороне литургического служения.
Некоторая ясность обнаруживается в деяниях Владимирского собора 1273/74 гг., вносившего, как уже было сказано, ряд ограничений для рукоположенных иподиаконов, если только таковые не были диаконами и «попами». Последнее обстоятельство весьма примечательно, поскольку указывает, что функции иподиаконов могли исполнять не только диаконы, но и священники. Привлечение иереев к подобному служению или функциям, исполняемым иподиаконами, могло происходить только при богослужении главы Церкви. То есть в данном случае указанные ограничения основывались на примере богослужения главы Русской митрополии. Отчасти на это указывает и упоминание в рассматриваемой статье соборного постановления о «великом иподиаконе», присутствие которого могло быть отмечено только при первенствующей кафедре. Однако вызывает интерес то обстоятельство, что в русском варианте число этих запретов было более широким, чем в постановлениях Лаодикийского собора, и помимо священных сосудов распространялось также на святое кандило (скорее всего, на большую напрестольную лампаду). Правда, в этом случае логично заключить, что по крайней мере до решений данного Собора практика привлечения иподьяконов к переносу литургических сосудов, напрестольных лампад и, вероятно, иных напрестольных предметов, скорее всего, являлась нормой. Теперь же ее пробовали пресечь.
Не менее примечателен 24‑й ответ Константинопольского собора епископу Феогносту. При рассмотрении вопроса о возможности кого-либо крестить при отсутствии священника был получен следующий ответ: «Вопрос. Аще будет нужа при смерти, а не будет святителя, ни попа, ни диакона, а будет дьяк, лзе ли ему крестить? — Ответ. Не будет святителя, ни попа, ни диакона, а будет диак причетник, да и тому подобает крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа».
То есть совершенное иподиаконом крещение воспринималось как действенное, при особых ситуациях приемлемое и даже единственно возможное.
Кроме того, сформулированная в Канонических ответах норма в отношении иподиакона примечательна тем, что позволяет посмотреть на подготовку лиц к иерархическому служению и на критерии, предъявлявшиеся ставленникам. Согласно ей, иподиаконство рассматривалось русским первосвятителем как церковная степень, обладатель которой мог претендовать («возжелать») на занятие более высоких должностей, приобретение которых достигалось через «искус» испытания. В отмеченной ситуации положение соискателя иподиаконства фактически полностью совпадало с положением ставленника, взыскующего диаконской степени, ибо «диакону надобно пройти время испытания», что «немыслимо относительно епископа». Примечательно, что отмеченный порядок приготовления и испытания перед рукоположением во диакона присутствует и в постановлениях Владимирского cобора 1274 г., согласно которым перед рукоположением ставленника необходимо было испытать на исповеди.
Комментируя положение иподиаконов на Руси, Е. Е. Голубинский, ссылаясь на правило митрополита Иоанна, отметил, что те «должны вступить в брак до посвящения, а иначе погубляют свой чин». При этом, по мнению церковного историка, русский первосвятитель «дает знать, что прежде дозволялось им жениться и после посвящения». Правда, при этом Е. Е. Голубинский допустил, что таковая практика, вероятно, была основана на установлении 10‑го правила Анкирского собора. Данное правило, действительно, расширяя нормы 26‑го апостольского правила, допускало возможность вступления клирика брак в случае, если безбрачный диакон до своего рукоположения заявлял о своем намерении жениться. Судя по всему, хоть оно и было отменено 6‑м правилом VI Вселенского собора, однако не было изъято из корпуса самих канонических норм и дало основания для его расширительных толкований.
Примечательно, что данное правило по своему содержанию близко к одному из ответов, полученных Кириком от святителя Нифонта Новгородского: «Белец поп без жены, аще ся случит ему пасти единой токмо, или пьяну, или како? — Аще и мертвые, рече, воскрешай, не может попом быть, такоже и дьяконом. В подьяконстве аще ти ся кает, приими его, но иное ему епитимии нет, и не дай еже лишиться сана, такоже и женатым».
Как и в случае Канонических ответов, вопрос затрагивает сферу интимной жизни иподиакона. Правда, если в вопросах мниха Иакова дело касалось возможности жениться, то во втором, у прп. Кирика Новгородца, — блуда. Примечательно, что оба архиерея предельно снисходительно отнеслись к таковым поступкам иподиаконов. Так, митрополит Иоанн, отрицательно относившийся к намерению иподиакона жениться и достичь после этого священства, все же, судя по ответу, не исключал такой возможности для настойчивого клирика. Что же касается епископа Нифонта, то он, не допускавший и мысли разрешать служение соблудивших священников и диаконов («пусть хоть мертвых воскрешают»), если же дело касалось иподиакона, напротив, призывал Кирика не усугублять положение иподиакона и сохранять такового в церковном чине. Правда, эта снисходительность новгородского архиерея все же была относительной и имела свой предел. В дальнейшем для «отличившегося» на любовном поприще иподиакона доступ к священству оказывался закрыт, как и для согрешивших подобным образом священников и диаконов, поскольку «нет для него другой епитимии». Подобная норма полностью соответствует 51‑му правилу свт. Василия Великого, определяющему для всех падших клириков одинаковое наказание. Примечательно, что аналогичную норму содержат и ответы митрополита Георгия: «76. По(п) аще твори(т) блу(д). не пети ему до смрти в ризахъ. НГФ 6 (с. 39): Аще по(п) дшю погубить. или блу(д) створи(т). не пети ему в риза(х) до смерти. то ему за епитимью.
77. Покаалникъ блу(д) твори(т). диакономъ не стати потомъ.
Ср.: НГФ 13 (с. 39): Аще дьякъ по покаяньи блудъ створить не станеть попомъ;
ЗИСД 17 (с. 116): Аще хоще(т) по покаянии блоу(д) створите дтякъ. не достоить ему стати попомъ».
Не вполне ясно, что являлось причиной отмеченной двойственности в мировоззренческих позициях архиереев при том, что согласно каноническим правилам, рукоположение действительно становилось препятствием к браку. По мнению епископа Никодима (Милаша), данная ограничительная мера в отношении клириков (иподиаконов, диаконов и пресвитеров), запрещающая им вступать в брак после принятия сана, «есть только дисциплинарный закон церкви», который может быть отменен подобным же соборным решением. Как представляется, данное обстоятельство хорошо осознавалось всяким, кто вдумчиво относился к нормам церковного (канонического) права. Вероятно, в этой вдумчивой позиции митрополита Иоанна и епископа Нифонта следует искать одно из объяснений отмеченной двойственности. Правда, такая мера могла объясняться и иными причинами, например проблемами рекрутирования духовенства, а также качеством кандидатов. Судя по всему, реалии жизни Древней Руси, вступавшие в противоречие не только с представлениями о должном образе пастырей, но и с нормами христианской морали, в описываемый период не позволяли кафедрам легко решать проблему пополнения клира.
Примечательно, что значительная часть казусов, которые интересовали прп. Кирика и его совопрошателей при составлении своего канонического свода, так или иначе были связаны с неблаговидным поведением клириков. Именно эти нормы доминируют в дисциплинарной части древнерусских церковных сводов и иных сводов, использовавшихся на Руси. Так, например, в «Заповеди святых отець», являвшихся русским переводом одного из латинских пенитенциариев, сексуальные проступки клириков и причетников составляют большую часть зафиксированных в сборнике грехов клириков, впечатляя разнообразием вариантов. Среди таковых значится, например, блуд с чужой женой: «Аще кто от причьта съ чюжею женою блоудъ створивъ. или съ невестою. или съ двцею. 3 лет. да покаеться о хлебе и о воде». Если же дело касалось клириков, то ситуация приобретала больший драматизм: «Аще ли есть дьяконъ. ли чьрноризьць. 4 лет. аще ли есть попъ. то 7 лет .3 от нихъ о хлебе и о воде. аще ли еп[и]с[ко]пъ то да извержеться и 9 ле[т]. покаеться». Несомненно, перечисленные правила были заимствованы из латинской практики, да и ничто в истории русских архиереев XI–XIII вв. не указывает на то, что кто-либо из них оказался повинен в подобном, если не считать драматичную историю судов над Лукой Жидятой и его обидчиками. Однако в основном своем содержании приведенная выше норма, как и иные правила «Заповеди святых отець», совпадала с реалиями русской жизни, в которой желавшему священства ставленнику приходилось задавать непростые вопросы, призванные испытать совесть готовившегося к рукоположению.
Вместе с тем в данном митрополитом Иоанном ответе заслуживает внимания еще одно обстоятельство. Повеление «рассмотри», с которым митрополит обратился к мниху Иакову, указывает на то, что Иаков не был рядовым монашествующим и в его обязанности входила — или должна была входить — подготовка ставленников к рукоположению. При этом мних наделялся правом испытать лицо, готовящееся к принятию церковного чина или сана. Вероятно, что под испытанием могли пониматься как исповедь, так и проверка готовности и способности кандидата во священство выполнять свои обязанности. Подобными полномочиями могли обладать только хартофилаксы и духовники, обладавшие священным саном. Таким образом, Иаков должен был либо иметь иерейский сан, либо готовиться к его принятию. Более того, принимая во внимание ряд норм, которые были в ведении епископата, разумно предположить, что Иаков мог готовиться и к святительской хиротонии.
Заключение
Все вышесказанное позволяет заключить, что на Руси XI–XIII вв. иподиаконы являлись одним из важных и почетных церковных чинов. Зримым образом принадлежности иподиаконов к клиру становилась выстригаемая на их главе тонзура. Рукоположенный иподиакон являлся низшей степенью священства и рассматривался как часть диаконата, что на каком-то этапе привело к некоторому размыванию границ между диаконским и иподиаконским служением. Неоднозначен ответ на вопрос о праве иподиаконов жениться. Судя по всему, на этот шаг смотрели неодобрительно, однако на практике такое допускалось с наложением на виновного пожизненного лишения права занимать более высокие церковные чины. Иподиаконы имели свою иерархию. При кафедрах были «великие иподиакона». Вместе с тем иподиаконские функции могли исполнять неосвященные лица, а также диаконы и иереи. Вероятно, последние привлекались к такому служению при главе Церкви.
Источник: Богослов.ru