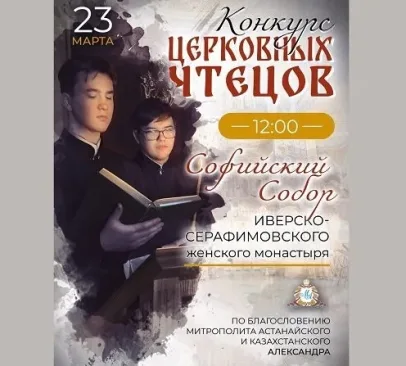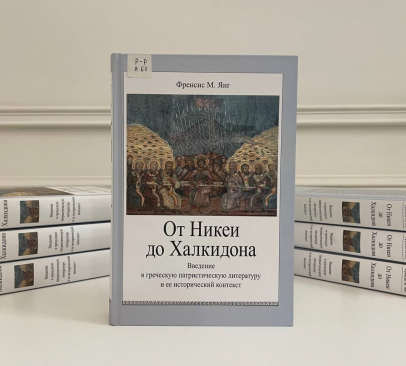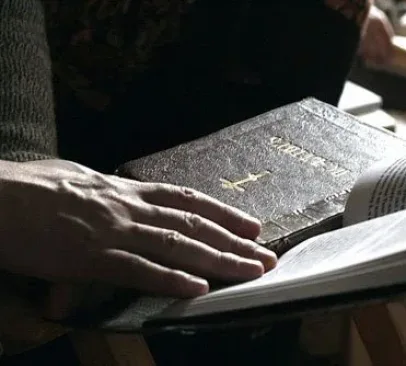С оживлением богословской науки в Русской Православной Церкви в постсоветское время перед отечественными исследователями Священного Писания встала естественная задача: возрождая собственную традицию, воспринять достижения мировой библеистики минувшего столетия.
Вопросы рецепции до сего дня остаются в поле зрения православного библейского сообщества, определяя тематику не только индивидуальных работ, но и крупных конференций, названия которых говорят сами за себя: Международная богословская конференция Русской Православной Церкви «Современная библеистика и Предание Церкви» (Москва, 2013), VII Совместный симпозиум восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета «История и теология в Евангельских повествованиях» (Москва, 2016), II семинар Сообщества преподавателей и исследователей Священного Писания «Церковность и научность библеистики» (Санкт-Петербург, 2017), Библейская секция XXXI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ «Историко-критический метод в библейской науке: проблема церковной рецепции» (Москва, 2021) и проч.
По результатам состоявшихся обсуждений можно констатировать, что вышеназванная задача до сего дня остается актуальной и не может считаться решенной: критерии рецепции не сформулированы, общепринятая позиция не выработана. Более того, на пути восприятия достижений мировой библеистики сохраняются принципиальные затруднения.
Лишившись церковного измерения, библейская наука не сможет осуществлять свои функции в жизни Церкви, не сможет служить уяснению верующими Божественного Откровения, актуализации Благой вести для спасающихся и свидетельству перед внешними. Также это влечет за собой эмансипацию догматики, нравственного богословия, церковной истории и прочих богословских дисциплин от Слова Божия, утрату единства богословия как области знания.
С другой стороны, и отказ от развития научной библеистики не обещает лучшего исхода. Исключение исследовательского элемента ведет к деградации богословского образования, к невозможности владеть интеллектуальным наследием Церкви, в том числе в сфере интерпретации Писания, к подмене церковного учения субъективными мнениями.
В свою очередь, попытки сочетать элементы критической традиции и церковного понимания текста в ситуации методологической неопределенности и даже противоречивости вряд ли могут служить крепким фундаментом для отечественной школы библейских исследований.
Проблематизация вопроса о научности и церковности библеистики
Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, требуется углубленная методологическая рефлексия, проблематизация категорий «научность» и «церковность» применительно к библеистике.
Попробуем поискать «систему координат», в которой можно было бы сравнивать между собой различные программы изучения Библии по одним и тем же основаниям. Нужно, чтобы ключевые элементы различных подходов проступили с достаточной отчетливостью для вынесения суждения об их совместимости или несовместимости.
Воспользуемся результатами философского анализа науки Нового времени. За этот период сменили друг друга несколько типов рациональности, которые получили в отечественной философии науки наименования классического, неклассического (релятивистского) и постнеклассического. Каждая такая существенная трансформация обнаруживала новые факторы, неустранимо влияющие на результаты научной деятельности, подобно тому как ураган выкорчевывает деревья и обнажает их корни, недоступные глазу в обыденной ситуации.
Классическая наука, доминировавшая в XIX в., сосредотачивалась на объекте исследования и исходила из предполагаемой возможности воссоздать единую и единственную истинную картину мира, для чего наблюдатель (исследователь) должен был абстрагироваться от метафизических, мировоззренческих, ценностных и иных предпосылок. И такое абстрагирование считалось возможным. Заметим, что именно в этой парадигме сформировалось ядро библейской критики — историко-критический метод.
Науки ХХ в., в том числе математические и естественные, столкнулись с принципиально новыми объектами исследования и были вынуждены выйти за пределы классических представлений. Принятие неевклидовых геометрий в качестве равноправных теорий с геометрией евклидовой, создание теории относительности и квантовой физики, а затем развитие синергетики подготовили почву для коренного пересмотра оснований науки, который нельзя считать завершенным.
Для нашего рассуждения существенным является созревшее понимание того, что «всякое научное знание ограничено системой предпосылок, входящих в само определение истины» [Лебедев, 2008, 27]. Субъект познания «вернулся» внутрь картины мира, которую он исследует; вскрылась неустранимая зависимость результата его деятельности от ее целевой причины и совокупности предпосылок, в том числе ценностных и мировоззренческих. Никакой фрагмент научного знания более не может в строгом смысле считаться безусловно истинным. Научная истина получает свою определенность и содержательность только в соотнесении с обусловившей ее картиной мира, то есть становится относительной и, как следствие, конвенциональной [Лебедев, 2017, 6].
В этих новых методологических условиях решение нашего вопроса о совместимости или несовместимости различных подходов в библеистике предполагает, что прежде всего для каждого из них мы должны прояснить всю совокупность мировоззренческих оснований, ценностно-целевых установок и прочих факторов, оказывающих существенное влияние на результаты исследований, описать, так сказать, подводную часть айсберга.
Для такого сравнительного описания воспользуемся идеями так называемой интервальной методологии.
Интервальный подход как инструмент соотнесения исследовательских программ
Интервальный подход в философии науки был предложен отечественными учеными Ф. В. Лазаревым и М. М. Новоселовым в 1960-е гг. и явился откликом на смену типа научной рациональности, вызванную работой с многомерными, сложными объектами, на вскрывшуюся парадоксальность самих оснований науки, на феномен сосуществования логически несовместимых аксиоматических систем. В ХХI в. интервальный анализ получил новый импульс развития: длящийся переход к постнеклассической науке поставил проблему сопоставления и сопряжения различных исследовательских перспектив и дисциплинарных подходов, преодоления нарастающей постмодернистской релятивизации знания и анархии исследовательских программ.
Для размышления о нашей проблеме интервальный подход может оказаться полезным: он свидетельствует об обновленном и усложненном современном понимании научности; применяется как к «наукам о природе», так и к «наукам о духе», осмысляя не только их отличия, но и глубинную общность; выявляет факторы, оказывающие неустранимое влияние на результат исследовательской деятельности, позволяя соотнести различные исследовательские программы.
Отправной точкой служит признание «генетической» множественности исследовательских позиций в науке, а также относительности и неполноты каждой из них. Такое положение осмысляется как отражение многомерности и сложности исследуемой реальности, которая в своей полноте и целостности не поддается рациональному схватыванию ввиду недоступности для наблюдателя абсолютной, беспредпосылочной позиции.
Авторы широко и свободно пользуются понятиями «интервал», «интервальность», «интервальная ситуация» и так далее, подчеркивая этим необходимость насколько возможно ясно очерчивать границы применения той или иной теории, понятийного аппарата, абстракции; а также прояснять познавательную позицию исследователя и границы ее возможностей.
В некотором смысле у интервала есть две стороны: гносеологическая и онтологическая. Всякий (коллективный) субъект познания определяется в своей исследовательской деятельности поставленной целью, ценностями, метафизическими, мировоззренческими и прочими неустранимыми предпосылками, а также средствами познания (методами), которыми он располагает. Совокупность этих факторов задает его познавательную позицию, которая позволяет адекватно «увидеть» некий интервал (измерение, аспект, фрагмент) исследуемого объекта, точнее построить интервал его интерпретации.
Идеал научной строгости требует определить «интервальную ситуацию», то есть описать пару: познавательную позицию и соответствующие ей границы рассмотрения объекта, то есть границы применимости используемых средств познания.
Интервальный подход не упраздняет, но старается уточнить понятие объективности и истинности знания. Требуется, чтобы познавательная позиция не была произвольной, но отражала ту или иную сложившуюся культурно-историческую или иную целостность, а также чтобы исследуемый предметный интервал ей соответствовал, чтобы гносеологические возможности исследователя были корректно оценены и границы этих возможностей не нарушались.
Решение вопроса о соотношении (иерархии, пересечении, совпадении), а также о совместимости или несовместимости различных интервалов требует их прояснения и поиска логических переходов между ними.
Библеистика глазами интервальной методологии. Пример историко-критического метода
Теперь мы можем вернуться к занимающему нас вопросу о возможности и критериях вовлечения достижений мировой библеистики в развитие церковной традиции.
Объект исследования библеистики, взятой во всей совокупности ее направлений и подходов, хотя и определяется совокупностью книг Библии, но не исчерпывается ею, а вовлекает естественные контексты (исторический, археологический, религиозный, культурный, литературный и прочие) и все мыслимые пространства интерпретации текста, в том числе в свете Божественного Откровения. То есть мы имеем дело со сложным, многомерным, многоуровневым объектом, сопряженным к тому же с заведомо рационально неисчерпаемой тайной Божественного действия в истории. Объект такой сложности логично рассмотреть с позиций интервальной методологии.
Первым шагом решения вопроса о рецепции той или иной исследовательской программы является прояснение гносеологического и онтологического интервала, в котором эта программа может претендовать на объективность, а добытые ею результаты — на научную истинность, соотнесенную с данным интервалом.
В качестве иллюстрации применим такой подход к историко-критическому методу как сложившемуся, хорошо описанному «изнутри» и применяемому до сих пор.
Этот метод формировался и достигал своей зрелости на протяжении XIX столетия в рамках классического типа рациональности в лоне либерального протестантизма под определяющим влиянием его целевых и мировоззренческих установок.
Исследователи одушевлялись целью реконструировать «чистое» изначальное христианство и подлинную историю еврейского народа: оригиналы библейских книг, историю их создания, их подлинный единственный изначальный смысл, события библейской истории, восстановить достоверный исторический образ Иисуса.
Принципиальный разрыв с католицизмом обеспечил базовую установку на противопоставление христианской истины и исторической Церкви, тем самым утвердив в качестве постулата презумпцию недостоверности церковного Предания. Исследование стало строиться в рамках «герменевтики подозрительности» [Прикоп, 2018, 531], которая требует считать содержимую Церковью картину мира и Священной истории недостоверной, пока не доказано обратное, закономерно достоверность и целостность библейских текстов должна была быть доказана извне.
Мировоззрение эпохи Просвещения в соединении с идеями деизма исключило из уравнения Божественное действие в мире и обеспечило требование объяснять библейское послание и библейскую историю чисто человеческими причинами [Данн и др., 2010, 106]. Автономный человеческий разум в его не преображенном состоянии стал считаться достаточным для выполнения этой задачи. Ушло понимание христианского совершенства как уподобления Богу. Духовная дистанция между исследователем и теми, кто стяжал «ум Христов» (1 Кор. 2:16), более не ощущалась и не могла приниматься во внимание. Отсюда ставшее приемлемым сведение мотивации и идей апостолов и даже Самого Спасителя к уровню современников. Отсюда же утрата нужды в святоотеческом ориентире при толковании Писания. Тáинственная связь христиан со своим Спасителем более не могла считаться значимой при интерпретации Писания, ее место в гносеологии приняли на себя общая принадлежность к человеческому роду и историческому процессу. Возникновение качественно новых явлений — прежде всего самого христианства — более невозможно было объяснять в плоскости синергии Бога и человека; освободившееся место в процедурах объяснения и интерпретации заняли идеи прогресса и развития «изнутри» человеческих общностей.
Внутри описанной мировоззренческой ситуации требование беспредпосылочности знания (ключевой идеал научности в классическом типе рациональности) в применении к библеистике закономерно свелось к отчуждению церковного измерения. Прочие же недоказуемые предпосылки историко-критического метода сохранились и сформировали его аксиоматику и, соответственно, положили пределы интервала, в котором результаты метода могут претендовать на свою меру объективности и истинности.
За два века зрелой жизни метода его аксиоматика (и интервал) остались прежними. На фоне гносеологических уроков XX в. приходит осознание не абсолютного, но гипотетического статуса его аксиом [Rendtorff, 1993] и понимание ограниченности применения его результатов [Kümmel, 1972, 403–404].
Подытожим наши наблюдения. Отметим, что название «метода» не передает сути описанного явления. Скорее, перед нами специфическая исследовательская программа в рамках агностической или автономно-рационалистической парадигмы библеистики. Это уточнение необходимо, так как название «исторический метод» или «исторический анализ» скорее ассоциируется с возможностью безусловной рецепции, чем с необходимостью прояснения ее условий.
Мы видим, что церковное измерение библеистики лежит за пределами интервала объективности исторической критики по определению. Поэтому интерпретации текста и событий Библии в свете Божественного Откровения, а также суждения о корректности таких интерпретаций не могут получить научной разработки в рамках этой программы. Данный вывод равно справедлив и для других подходов, лежащих в пределах методологического агностицизма, познавательная позиция которых заведомо ограничена сферой естественного богопознания.
Получаем, что исследовательские программы, лежащие в «агностическом интервале», взятые в своей совокупности, недостаточны для научного сопровождения тех функций, которые Священное Писание выполняет в жизни Православной Церкви.
Сотериологический подход — церковная территория в научной библеистике
Мы вплотную подошли ко второй стороне процесса рецепции — стороне принимающей.
Церковная библеистика в глазах раннего историко-критического метода выглядела гадким утенком. Ясность и неустранимость ее рационально не проверяемых и не общезначимых предпосылок квалифицировались как нарушение объективности и ограничение научной свободы.
Однако ситуация — как и в сюжете Андерсена — опрокидывается при смене методологического взгляда. В новых условиях ясность онтологических и гносеологических предпосылок — скорее признак научной строгости и условие достижения истины, нежели препятствие на пути к ней. Кроме того, осознание неполноты любых рациональных описаний сложного объекта исследования, естественно присущее церковной науке, — характеристика самого современного знания.
Так как православное христианство относится к сложившимся историческим и социальным целостностям, определяющим формы и цели жизни людей, их сознание, оно с необходимостью определяет особую познавательную позицию [Лебедев, 2008, 29, 61] и связанные с ней возможности исследования сложного объекта библеистики, описанного выше, в том числе с таких сторон, которые «не просматриваются» с других «точек отсчета». В частности, раскрывающееся в опыте Церкви видение соотношения познаваемого и непознаваемого обладает высоким эвристическим потенциалом для современной научной методологии.
Итак, появляется задача описать на современном уровне методологической рефлексии извод научной библеистики, соответствующий православно-христианскому мировоззрению. На IV Всероссийском семинаре преподавателей и исследователей Священного Писания, состоявшемся в марте 2022 г. в СПбДА, для этого направления было предложено рабочее название «сотериологический подход», по его основной целевой установке.
Подытожим наши размышления, выделив то, что непосредственно подводит нас к разработке сотериологического подхода.
- Современное представление о научности, существенно углубленное благодаря открытиям ХХ в., лишает оснований противопоставление категорий научности и церковности, задержавшееся во многих направлениях библеистики.
- В новых методологических условиях характерное для церковной науки осознание своих онтологических и гносеологических предпосылок скорее приближает, чем удаляет ее от идеала объективности и истинности знания. При этом сами эти предпосылки, отражающие православно-христианское мировоззрение, обладают высоким эвристическим потенциалом для современной научной методологии, затрагивая соотношение познаваемого и непознаваемого.
- В свою очередь, отчуждение церковного измерения библеистики при создании историко-критического метода и его специфическая аксиоматика существенно сужают тот интервал, в пределах которого результаты применения метода могут претендовать на свою меру объективности и истинности. В частности, за пределами этого интервала оказывается научное сопровождение тех функций, которые Священное Писание выполняет в жизни Православной Церкви. (Сказанное относится и к иным подходам, построенным на методологическом агностицизме.)
- Естественным образом возникает необходимость переосмыслить методологическую составляющую церковной библеистики с учетом трансформаций представлений о научности в ХХ–ХХI вв., включая достигнутое понимание принципиальной предпосылочности знания — описать ее «интервал» с гносеологической и онтологической стороны, а также проанализировать с заявленных позиций иные исследовательские направления. Искомый результат мы назвали сотериологическим подходом.
- Поставленный в начале статьи вопрос о рецепции достижений мировой библеистики транслируется в комплекс задач в рамках разработки сотериологического подхода. Для каждой интересующей нас программы библейских исследований (будь то агностической, фундаменталистской или иной) требуется прояснить ее аксиоматику и — в соотнесении с ней — возможность и пределы корректного использования результатов.
Автор статьи: Таланкина Мария Владимировна – старший преподаватель кафедры теологии и аспирант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ученый секретарь Федерального учебно-методического объединения по теологии.
Источник: Богослов.ru